| Натуралистские объяснения в социологии | А.А. Кожанов |
|
4 of 6 |
Количественная социология: преемственность и переоценка
Вопрос статистических закономерностей в
науках был поднят в генетике и квантовой физике.
Вскоре, все сколь-нибудь надежные и существенные
закономерности были описаны в статистической
форме. Такие описания стали основой новой теории
подтверждения в социологической науке. Первые
успехи квантификации приписывают П.Лазарсфельду
как основателю математически понимающей
социологии (вслед за Парето). Основываясь на
приведенном выше анализе, можно сформулировать
главную проблему количественной социологии: с
одной стороны, есть жесткие процедуры наблюдения
и сбора эмпирических данных, и есть
статистические процедуры подтверждения или
опровержения корреляционных зависимостей, с
другой стороны, есть процедуры логического
вывода, на основе которых формулируются гипотезы
(или законы) причинно-следственного отношения
фактов (синтаксических, а не эмпирических);
проблема в том, что между ними есть огромная
пропасть неопределенности, поскольку "внешние"
корреляционные отношения (частотные) не имеют
логически необходимой связи с каузальными
предположениями, основанными на нашем
перцептивном опыте. То, что А коррелирует с Б, с
точки зрения строгой теории знания, не означает,
что А и Б находятся в причинно-следственных
связях. Для практического вывода в социологии
эта юмовская скептическая оценка означает, что
честных процедур в социологии две: либо
процедура корреляции (апостериорная), либо
процедура каузальности (априорная); либо
эмпирическая семантика, либо
формально-нормативная синтаксическая редукция
понятий; либо индукция, либо дедукция. В первом
случае нет объяснения как такового, поскольку
нет правила расстановки стрелок причинности (А ![]() Б, А
Б, А ![]() Б, А
Б, А ![]() Б, А
Б, А ![]() С
С ![]() Б), во втором
- причинность не укреплена в эмпирике, не
очевидна, часто бессмысленна. Количественная
социология, конечно, выросла из философии
логического позитивизма, но, преодолевая его
недостатки и стремясь вобрать в себя все лучшее,
что есть в логике, приобрела вид довольно нелепой
эклектики - процедура количественного вывода
работает проблематично, узко и с большими
допущениями необоснованного оптимизма
относительно надежности ее причинного вывода.
Б), во втором
- причинность не укреплена в эмпирике, не
очевидна, часто бессмысленна. Количественная
социология, конечно, выросла из философии
логического позитивизма, но, преодолевая его
недостатки и стремясь вобрать в себя все лучшее,
что есть в логике, приобрела вид довольно нелепой
эклектики - процедура количественного вывода
работает проблематично, узко и с большими
допущениями необоснованного оптимизма
относительно надежности ее причинного вывода.
Профессор Вильгельм Виндельбанд едко замечал, что "социология никогда не станет полноценной наукой, потому что в ее названии латинский слог скачет на греческом - этот кентавр никогда не научится скакать". Это следует дополнить в метафорическом смысле пониманием трудностей научиться "мыслить социологически", оставаясь при этом продолжателем традиций научной честности в крестовом походе за истиной. В такой ситуации проще совсем не надеяться на победу в споре с природой, чем создавать иллюзию знания.
Дедуктивно-номологическая модель в социологическом объяснении
Когда говорят, что социология как наука началась с позитивизма (логического, а не контовского), имеют в виду, что процедура социологического объяснения была изначально построена на принципах дедуктивно-номологической модели. Для анализа теоретико-социологического уровня натуралистского объяснения рассмотрим некоторые практические аспекты применения ДНМ для объяснения рационального человеческого действия.
"Мамонт" (пример)
Продемонстрируем работу ДНМ на конкретном примере. Для этого возьмем ситуацию из жизни первобытного человека - "охота на мамонта". Этот пример часто приводят в курсе общей социологии, желая показать студентам, что социологические законы имеют силу инстинкта, и начала социальной жизни могут быть найдены даже в глубоко доиндустриальном, почти природном мире. Смысл коллективной охоты заключается в простейшем разделении ролей, когда одним членам группы достается роль загонщика (гнать мамонта в нужном направлении, производя шум), а другим остается поджидать добычу в определенном месте с несомненными намерениями на ее счет. Пусть целью будет описать (а значит и предсказать, по Гемпелю) поведение "загонщика" в момент решения им задачи (интенции) по поиску пищи.
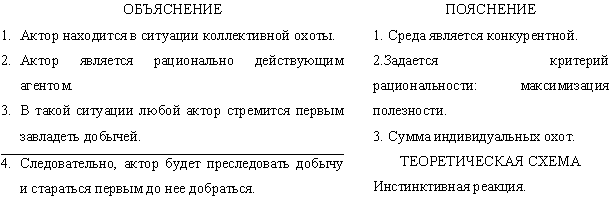
Такое объяснение удовлетворяет требованиям и формальной логики, и позитивистской программы. Как и другое объяснение этого же антецедента.
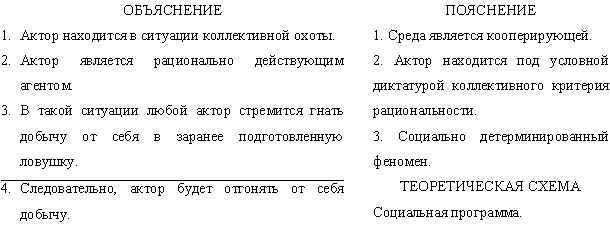
Таким образом, мы имеем дело с некоторым парадоксом, когда одинаково хорошо и достоверно описаны два исхода, взаимоисключающие друг друга в том смысле, что они не могут быть применены на практике одновременно. И любопытно было бы посмотреть на того доисторического человека, которому предстоял бы выбор этих теоретических логик - выбор, прямо скажем, судьбоносный. Если бы речь шла о бихейвиористском объяснении, можно было бы предположить, что актор действует (бежит за добычей) и в первом, и во втором случае, то есть может быть полимотивированным субъектом; для классического натурализма смысл объяснения не в действии как таковом, а в интенции, то есть осознанном целерациональном акте свободы воли как причины действия, и в этом смысле телеологическое объяснение должно быть однозначным. Рассмотрим этот парадокс подробнее. Антецеденты здесь одни и те же. Различие заключается в разном понимании критериев рациональности. Это и есть та самая проблема интенциональности, частным случаем которой является проблема рационального описания действия, что в социологии играет важную роль. Критерии рациональности в ДНМ не указываются, а остаются за скобками. Однако моделей рационального поведения, от теории рационального выбора и моделей экономического поведения до моделей обмена и теорий инструментальной рациональности, довольно много. "В отсутствие более объективного критерия рациональности целей любой самый странный поступок может быть представлен в качестве разумного, если постулировать соответствующие безумные желания и (или) убеждения" [10] . А поступок нормальный во всех отношениях истолкован неверно. Гемпель ввел рациональность как диспозицию, считая (хотя это и не в правилах карнаповской программы), что эмпирическая реальность расставит все на свои места, то есть тот или иной критерий рациональности может быть определен как лучший или худший по степени эффективности его использования. Однако, во-первых, этого может и не знать актор: совершая акт свободы воли в виде выбора стратегии, сам набор таких стратегий может быть неопределен. Поэтому инцест, например, может быть нерациональным поведением для европейской культуры, оценивающей его в биолого-генетическом плане, и вполне естественным и рациональным в некой туземной культуре, где инцест является символическим регулятором экономических связей. Во-вторых, эмпирическая проверка эффективности рациональности сталкивается с проблемой эмпирического наблюдения. Действительно, наблюдая за охотой на мамонта можно прийти к выводу, что только коллективная "ролевая" охота (второй вариант) является правильным решением задачи - эффективным и, следовательно, рациональным. Но, возвращаясь к исходной цели создания ДНМ, вспомним, что задача объяснения была симметричной предсказанию, потому что пропозициональное высказывание было априорно, т.е. предшествовало опыту (да и опыт как эмпирический факт не предполагался). Использование дедукции позволяло Гемпелю рассчитывать на редукцию всех объяснений к неким "базовым понятиям" через протокольные предложения Карнапа. Как писал Б.Рассел: "Утверждения о реальной действительности, которые кажутся нам заслуживающими доверия независимо от каких-либо аргументов в их пользу, можно назвать базисными суждениями. Они связаны с определенными невербальными событиями, которые можно назвать "чувственным опытом". Природа этой связи является одним из фундаментальных вопросов эпистемологии" ([6] , с. 15). Как показывает практика, по мере того, как ДНМ все дальше и дальше "разворачивает" дедуктивный вывод и, удаляясь от тривиальности "базисных суждений", приближается к все-таки физическому миру, дедуктивные каналы истинности приобретают неуверенность и не работают. Тогда, в области непосредственной близости от эмпирических объектов, возникают и функционируют другие, чаще всего апостериорные теоретические логики. В частности, пробалистические и индуктивно-статистические стратегии, методологические основания которых были рассмотрены ранее. Когда ДНМ зависит от опыта, подтверждающего или нет ее гипотетический вывод, тогда, по выражению К.Глаймура, "решается половина позитивистского вопроса", то есть ДНМ и любое другое натуралистское объяснение становится локальным (даже используя "охватывающий закон"), сама дедуктивная система перестает быть закрытой и самодостаточной и, наконец, перетекает в сторону денатурализированного куайновского релятивизма.
Вернемся к "охоте на мамонта" и ответим на вопрос, почему первый вариант объяснения - ложный, а второй - истинный. Смогла бы дедукция ответить на этот вопрос, опираясь, согласно Декарту, на саму процедуру своего логического вывода? Если бы нам не был известен правильный ответ (практика реальной охоты), мы получили бы пробалистическое объяснение, то есть обычное гипотетико-дедуктивное предположение. Его проверка потребовала бы привлечение "опыта". Как ДНМ соотносится с опытом, встречаться и тем более прибегать к которому изначально не предполагалось? Вывод, известный как парадокс Гемпеля, таков: "Гипотеза, что все вороны черные, подтверждается наблюдением белого ботинка" ([7] , c. 157).
Итог очевиден: модель Гемпеля не имеет модификационных возможностей повысить чувствительность к стохастике эмпирического мира. Идея чистой логической дедукции и совершенного формального знания не удалась. "Дело подтверждения гипотезы из уважения к одной теории и вместе с тем не подтверждение противоположной гипотезы из уважения к другим теориям не означает (determine) того, должно ли наблюдение считаться подтверждением первой гипотезы как таковой. Это может означать частично, насколько важно такое подтверждение, в зависимости от структуры двух теорий, от другого доказательства, доступного для них, и ни от чего более" ([7] , c. 161).
Такое знание конъюнктурно: оно зависит от субъективной приверженности ученого (социолога) к той или иной концептуальной схеме - блестящий алгоритм дедуктивно-номологической модели может быть наполнен любой теоретической начинкой, ведущим символом которой будет являться та или иная трактовка рациональности. И это может стать новой метафизикой.
Завершая историю с мамонтами, отметим, что общие проблемы объяснения в ДНМ делают сомнительным наше "знание" об истинных интенциях человека. Мы можем уверенно сказать о том, что нам известно желание первобытного человека - поесть. Но из этого, не имея однозначно определенного критерия рациональности, мы не можем объяснить его "странное" поведение. В итоге, мы можем утверждать что-то об общем законе, но ничего не узнаем о рациональности в принципе. (Заметим также, что рациональность должна быть определена заранее, то есть априори, а не переформулирована после опыта, чтобы не превратить ДНМ в фабрику тавтологий - бессмысленных и неточных.) В этом случае мы не сможем сделать однозначный вывод, как сам актор интерпретировал свои действия, какой принцип полезности он признавал и, в конечном счете, насколько рационально он действовал. В данном примере этот недостаток модели тем более очевиден, что мы заранее знаем, что актор вообще не был рациональным субъектом, а действовал по аффективному или традиционному типу социального действия (Вебер для таких типов действия считал возможным лишь ненаучное actuelles Verstehen / [10] ).
Насколько хороша ДНМ для применения в социологии? Модель дает удовлетворительное объяснение, достаточное для каждого. Для каждого, кто не знает о природе охватывающего закона, сформулированного интуитивно. Для каждого, кто считает то или иное ситуативное определение рациональности правильным ("логичным"). И, наконец, для такого каждого, кто не знает о реальных, эмпирических следствиях действия. Эти следствия для такого каждого могут быть просто непредсказуемыми и абсурдными. Таким образом, ДНМ Карла Гемпеля имеет очень низкую чувствительность к феноменам социального мира. Если феномен, открытый каким-то другим волшебным образом положен в основу закона, то модель работает отлично. Самостоятельно открыть подобный феномен модель не может. Поэтому мир, созданный и описанный ДНМ - это мир логичный, а не феноменальный. Когда же модель застревает, то есть эмпирическое свидетельство указывает на исход, обратный предполагаемому, - это является признаком наличия здесь "другого решения", нового феномена. Впрочем, такое следствие случайно и не обязательно продуктивно.
Второе следствие состоит в том, что благодаря свойству быть великолепно применимой к уже открытым истинам, точнее к их экстраполяции на локальные области знания, ДНМ остается востребованной и актуальной в научном социологическом сообществе. Она выполняет функцию аксиоматизации знания, некого первичного теоретического конструкта, в качестве которого могут выступать теории социального действия, социальных систем и т.д. ДНМ институционализирует знание. Любое знание. Блестящий образец - фрейдизм, построенный на трансляции своих аксиом, не заботясь и не спрашивая, действительно ли эти аксиомы так очевидны и тривиальны, что не требуют доказательства. ДНМ служит "классикам" социологической теории и тем, кто рассчитывает занять их место. Это грозное оружие, не имеющее внутренней защиты от проникновения всякого рода метафизики, с борьбы с которой и начиналось позитивистское движение.
Единственной защитой науки против здравого смысла был и остается логико-эпистемологический и методологический анализ.